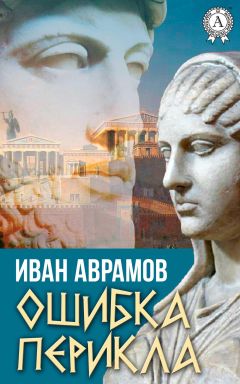Здесь выражен отказ от классицизма, да и романтизма, культивируемых Академией художеств, но сказать, что Стасов выступает за реализм, — мало; он ратует за искусство “великое, нужное и священное”, “дело света, истины и красоты”. Он выражает тот же порыв к свободе и к жизни, что и группа учащихся Академии во главе с Крамским, которая в 1863 году потребовала право писать дипломную работу не на одну и ту же тему, а свободно, по усмотрению каждого; получив же отказ, молодые художники покинули стены Академии и, оставшись без всяких прав и средств к существованию, организовали Артель художников, словно бы в ответ на вопрос “Что делать?” Чернышевского.
В 1870 году было создано более жизнеспособное сообщество — Товарищество передвижных художественных выставок, с устройством выставок не только в Петербурге и Москве, но и во многих городах России, что соответствовало интересам и потребностям разночинной интеллигенции, мещан и купечества.
На передвижниках лежит печать “позднейшей критики”, которая и в хвалу, и в хулу равно впадала в односторонности, а суть явления передвижничества так и не была осмыслена. Все свели к реализму, чуть ли не к одному бытовому жанру, как в Академии художества к классицизму, когда искусство — никакой не “изм”, а “дело света, истины и красоты”.
Политическая злоба дня, борьба за реализм — все это было, но подлинное искусство всегда явление самобытное, а в условиях России второй половины XIX века, как в литературе, мы видим классическую эпоху живописи, как в странах Западной Европы в XVII веке, разумеется, с совершенно новым содержанием, какого вообще не было и нет нигде в мире.
Тотальная критика действительности 60-х годов, как пишут исследователи, сменяется более углубленной постановкой вопроса: “Что прекрасно в жизни?” У передвижников примечателен и бытовой жанр, тяготеющий к театру, и историческая живопись, и религиозная, но лишь по теме, поскольку и Крамской в картине “Христос в пустыне”(1872), и Ге в картине “Голгофа”(1893) последовали за Александром Ивановым в его библейских эскизах, когда не религия, а миф становится предметом искусства, воплощая в себе столь же извечную, сколь и современную проблематику бытия и судьбы человека.
Но знаменательны достижения передвижников именно в портрете и пейзаже. По ту пору, как ни удивительно, в России явился прямой заказчик на портреты выдающихся людей эпохи. Это П.М.Третьяков (1832–1893). Получив большое наследство, он начинает собирать произведения русских художников для создания музея.
“Для меня, истинно и пламенно любящего живопись, — писал Третьяков, — не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, приносящего многим пользу, всем удовольствие”.
Третьяков построил специальное здание галереи, открытой для всеобщего обозрения в 1881 году, а в 1892 году он подарил собрание картин городу Москве вместе со зданием.
Портреты знаменитых писателей, художников, композиторов, ученых, общественных деятелей кисти Перова, Крамского, Ге, Репина, нередко по прямому заказу Третьякова, отвечали живейшему интересу интеллигентной публики к ее кумирам, властителям дум. Лев Толстой, Достоевский, Герцен, Глинка, Мусоргский, Бородин и т. д. — здесь предстают перед нами наши удивительные собеседники, вечные спутники, по выражению Мережковского, весь духовный мир России в вечности.
И то же поразительное откровение, к которому мы привыкли, обнаруживает пейзаж в русской живописи. Это совершенно новый жанр, который зарождается именно в ренессансные эпохи, как было в странах Востока и Запада.
Пейзаж — это не просто воспроизведение природного ландшафта, привлекшего чем-то внимание человека, а всегда нечто большее, в чем художник выражает некое чувство, мысль, настроение, к тому же только ему присущей поэтике, поэтому он неповторим и национален, как лирика или музыка. Это легко заметить даже среди работ А.К.Саврасова (1830–1897). Так и видно: лишь в результате долгих исканий художник создает овеянные его чувством и мыслью пейзажи и выступает как зачинатель русского пейзажа.
“Грачи прилетели”(1871), “Проселок”(1873) — это уникальные шедевры, неповторимые, единственные в своем роде даже для самого их творца.
Более счастливо достигает такого же откровения, но уже исполненного радости и величия, И.И.Шишкин (1832–1898). Его картины известны, как хрестоматийные стихотворения Пушкина, Лермонтова, Тютчева. “Рожь” (1878) — это высокий образ России.
“Мне не нужно ни богатой природы, ни великолепной композиции, ни эффектного освещения, никаких чудес, — писал П.М.Третьяков, заказывая картину одному из художников, — дайте мне хоть лужу грязную, да чтобы в ней правда была, поэзия, а поэзия во всем может быть — это дело художника”.
Здесь выражена удивительным коллекционером эстетика русского пейзажа, можно сказать, и прозы, и русского театра, и русской музыки.
Передвижники не были ни жанристами, ни представителями критического реализма (это скорее удел эпигонов), а изумительными художниками классической эпохи русской живописи. Они воплощали в портретах, пейзаже, исторических полотнах положительные начала русской жизни, русской культуры и русской души.
Ф.А.Васильев (1850–1873), умерший 23 лет, начинает как романтик, очевидно, по возрасту, очень рано достигший невиданного мастерства в изображении, скажем, просто неба. Кажется, то, к чему он стремился, успел свершить Саврасов в “Проселке” в год смерти юного мастера. Природа у Саврасова, у Шишкина, как позже у Левитана, предстает не условной, не приукрашенной, а такой, какая есть, вместе с тем в высшей степени одухотворенной, очеловеченной, исполненной настроения и мысли, то светлой, то печальной, как лирика русских поэтов. Это именно русская природа с теми же национальными особенностями русской души.
Как в исторических картинах, так и в портрете передвижников мы узнаем саму Россию в ее трагические эпохи, в лицах лучших ее представителей, так в пейзаже проступает ее душа с ее раздумьями о самом сокровенном и вечном, ее природа, от которой веет тихой красотой, исполинским величием и всегда отрадой.
Когда искусство впервые так полно воссоздает земную жизнь во всех ее проявлениях, непрерывно достигая все новых вершин во всех его видах, это и называется не иначе, как Возрождением.
Но эта безмолвная дума, какая веет от природы и живописных полотен, тоска и радость, звенящая исстари песней и зазвучавшая в новой русской музыке всем богатством звуков оркестра, наполнились живыми человеческими голосами на сцене с явлением персонажей пьес А.Н.Островского из нетронутых прежде искусством слоев общества — купечества, мещан, разночинной интеллигенции, каковые отныне сами будут составлять театральную публику. Это ситуация в высшей степени характерна для ренессансной эпохи как в Англии во времена Шекспира, так и в Японии во времена Тикамацу.
Театр в России вырос из придворного (и крепостных театров), находясь под непосредственным управлением министерства двора так же, как и Академия художеств. Для развития балета это было безусловно благом, для оперы и драматического искусства также, но до рождения русской национальной оперы и русской национальной драмы, то есть до Глинки и Островского.
Пьесы Фонвизина, Грибоедова, Гоголя, Пушкина и многих второстепенных драматургов, некогда, впрочем, знаменитых, лишь закладывали основы национального театра с освоением европейской драмы, с явлением замечательных актеров и актрис от Каратыгина и Асенковой до Щепкина, имена которых и поныне у нас на слуху. Словом, русский театр существовал и уже началась его демократизация в плане изменения состава театральной публики, когда А.Н.Островский (1823–1886) поступил в Московский университет, на юридический факультет по настоянию отца, закончившего в свое время семинарию в Костроме и Духовную академию в Москве, но выбравшего карьеру чиновника и весьма успешно ведшего частную юридическую практику в Замоскворечье, так что он с обретением потомственного дворянства нажил также и состояние, и мечтал о такой же судьбе для своих сыновей.
Брат Островского Михаил дослужится до министра государственных имуществ. Но Александр не одолеет и второго курса университета, увлекаясь театром и литературой с предчувствием призвания. Устроенный отцом служить поначалу в Московский совестной суд, а вскоре в Московский коммерческий суд, более перспективный для карьеры, Островский заводит друзей из молодых актеров и литераторов, в числе которых будет и Аполлон Григорьев, поэт и критик, которые, кроме театра, проводят время в трактирах, увлекаясь русской и цыганской песней, — русские песни они сами поют под гитару, пишут стихи, а к ним музыку.